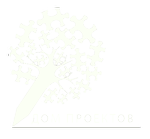Выпуск III
06/2020
06/2020
Раздел I. Былое
Вспомнинаем то, что было и бывало
Содержание:
Моё горькое лето 1953 года
Квартирный вопрос по-советски
Как мы с братом добирались в Ленинград (продолжение)
Aвтобиография Павла Новикова (продолжение)
У всякого святого есть прошлое, у всякого грешника — будущее
- Оскар Уайльд
- Оскар Уайльд
Мой маленький дворик
Хорошо помню, как жители нашей деревушки Ларьки, громко рыдали.
Как-то необычно звучала музыка из единственной черной тарелки репродуктора. Строгий мужской голос что-то говорил, и все плакали навзрыд.
Стояла ранняя весна 1953-го года. Умер Сталин. Не очень понимала, что происходит, но все рыдали. Вероятно, каждый о своем, и я тоже плакала.
Мы жили в Коми АССР, в суровом Приполярье с вечной мерзлотой. Деревенька наша находилась на правом берегу холодной широкой реки Уса. В ней несколько деревянных домов, землянки, в которых зимой хранили выращенную картошку и турнепс.
В нашей деревне Ларьки жили колхозники, в основном женщины, несколько мужчин с боевыми ранами. Из детей, я, да Боря Вокуев. Жили дружно. Ссорились только мы с Борькой. Я пыталась его научить читать, а он не хотел. Мечтал стать солдатом и целыми днями строгал ружья.
Как-то необычно звучала музыка из единственной черной тарелки репродуктора. Строгий мужской голос что-то говорил, и все плакали навзрыд.
Стояла ранняя весна 1953-го года. Умер Сталин. Не очень понимала, что происходит, но все рыдали. Вероятно, каждый о своем, и я тоже плакала.
Мы жили в Коми АССР, в суровом Приполярье с вечной мерзлотой. Деревенька наша находилась на правом берегу холодной широкой реки Уса. В ней несколько деревянных домов, землянки, в которых зимой хранили выращенную картошку и турнепс.
В нашей деревне Ларьки жили колхозники, в основном женщины, несколько мужчин с боевыми ранами. Из детей, я, да Боря Вокуев. Жили дружно. Ссорились только мы с Борькой. Я пыталась его научить читать, а он не хотел. Мечтал стать солдатом и целыми днями строгал ружья.
Читать меня научил дядя Матвей, мамин брат. Он не видел, таким вернулся с войны. Чертил прутиком на земле буквы и слова. Мой любимый дядя знал миллион сказок и стихов. Сам заново учился читать по толстой книге с точками вместо букв.
В колхозе держали коров, телят, лошадей. По деревне бегали веселые собаки лайки.
На другом берегу реки довольно большой поселок Кочмес - Лаг. Зимой деревенские, ездили в магазин на санях, по покрытым толстым льдом реке, а летом переплывали Усу на лодках. Иногда в это путешествие брали и меня.
В Кочмесе много длинных бараков, вышки, все за колючей проволокой. Три двухэтажных дома, теплица и библиотека.
В колхозе держали коров, телят, лошадей. По деревне бегали веселые собаки лайки.
На другом берегу реки довольно большой поселок Кочмес - Лаг. Зимой деревенские, ездили в магазин на санях, по покрытым толстым льдом реке, а летом переплывали Усу на лодках. Иногда в это путешествие брали и меня.
В Кочмесе много длинных бараков, вышки, все за колючей проволокой. Три двухэтажных дома, теплица и библиотека.
Много мужчин и женщин в полосатых пижамах, в темных телогрейках с номерами на спине. Охраняли их солдаты с винтовками и злющими овчарками.
Потом наступило лето. Я заметила, моя бабушка, каждый вечер, прячет под куст ивы банку с молоком и хлеб в тряпице. Мне она объяснила, что это гостинец гномикам. На другой день в деревне все знали, к нам ночью в гости приходят гномики. Меня выпороли первый раз в жизни. Я не очень понимала за что. Было обидно.
Северное лето короткое с холодными белыми ночами. Однажды мы с бабушкой пошли рано утром на Усу за водой. И увидели на песке, лежащего мужчину в полосатой пижаме. Бабушка стала его тормошить, но он молчал и не шевелился. Бабуля обняла меня, мы сидели и долго плакали.
Я тогда ничего не понимала и не знала про амнистию. На волю выпустили в основном уголовников, а политические пытались бежать через бурную ледяную реку от овчарок. Но Уса не щадила их и не жалела. Редко кто ее переплывал.
Осенью меня с Борей отправили в интернат в первый класс.
В 1962-ом году закрыли Кочмес - Лаг. Кое-кого перевели в Воркутинские лагеря. Некоторые разъехались по домам, с потерянным здоровьем, с надеждами на лучшую жизнь.
Давно нет нашей деревни Ларьки, опустел и обезлюдел Кочмес.
Трудно понять, почему люди писали доносы друг на друга. Почему не прекращаются войны. Мир так прекрасен и загадочен.
Я многое забыла, но до сих пор помню, то короткое холодное лето и свои не по-детски горькие слезы.
Потом наступило лето. Я заметила, моя бабушка, каждый вечер, прячет под куст ивы банку с молоком и хлеб в тряпице. Мне она объяснила, что это гостинец гномикам. На другой день в деревне все знали, к нам ночью в гости приходят гномики. Меня выпороли первый раз в жизни. Я не очень понимала за что. Было обидно.
Северное лето короткое с холодными белыми ночами. Однажды мы с бабушкой пошли рано утром на Усу за водой. И увидели на песке, лежащего мужчину в полосатой пижаме. Бабушка стала его тормошить, но он молчал и не шевелился. Бабуля обняла меня, мы сидели и долго плакали.
Я тогда ничего не понимала и не знала про амнистию. На волю выпустили в основном уголовников, а политические пытались бежать через бурную ледяную реку от овчарок. Но Уса не щадила их и не жалела. Редко кто ее переплывал.
Осенью меня с Борей отправили в интернат в первый класс.
В 1962-ом году закрыли Кочмес - Лаг. Кое-кого перевели в Воркутинские лагеря. Некоторые разъехались по домам, с потерянным здоровьем, с надеждами на лучшую жизнь.
Давно нет нашей деревни Ларьки, опустел и обезлюдел Кочмес.
Трудно понять, почему люди писали доносы друг на друга. Почему не прекращаются войны. Мир так прекрасен и загадочен.
Я многое забыла, но до сих пор помню, то короткое холодное лето и свои не по-детски горькие слезы.
Когда я слышу, что кто-то в запальчивости заявляет: «Раньше квартиры давали бесплатно!», мне становится грустно.
Давали не квартиру, а ордер – документ на право вселения в квартиру. Один из членов семьи был «ответственным квартиросъёмщиком». Теперь мы чувствуем эту разницу, а тогда была только радость. На самом же деле эту квартиру нельзя было ни продать, ни передать по наследству тому, кто не прописан в ней. Прописать – тоже свои проблемы и условия. То есть квартира оставалась в собственности государства. Не буду вдаваться в тысячи мелочей. Каждый решал свои проблемы по-своему. Расскажу о своих.
Лично я получила благоустроенную двухкомнатную квартиру на 38-ом году жизни при переводе на новое место работы, как специалист.
Спустя 10 лет встал вопрос об обмене этой квартиры на жильё в г. Ленинграде, чтобы дочь могла продолжать образование, и квартиру в Архангельске, чтобы я могла доработать до пенсии.
Это было всего 30 лет назад, но ещё до развала СССР. Рыночные отношения в сфере недвижимости стали развиваться после 1990 года, а в 1988 году мы радовались, что существуют Бюро по обмену квартир, где сосредоточены все сведения по обмену квартир и там законно оформят обмен.
Подвернулся подходящий вариант: нашу 2-х комнатную квартиру жилой площадью 31 кв.метр , с большой кухней 9 кв. метров и большой лоджией обменять на маленькую однокомнатную квартирку в Архангельске и комнату в коммунальной квартире в городе Ленинграде. В сумме даже метраж жилой площади одинаков. Чего лучше? Но мы тогда жили в стране, где всё нельзя!
Итак, в обмене участвуют: с нашей стороны я, и моя взрослая дочь с маленьким ребёнком, с другой стороны – муж, жена и её престарелая мать.
Договорились с теми, кто меняется. Вдруг приходит Роза (основной двигатель этого обмена), вся в слезах и говорит, что её муж так мечтал, так мечтал, что на кухне и в ванной будет кафель, а без кафеля он не согласен. Дело в том, что в домах нашей серии по проекту полагается кафель, просто наш подъезд крайний и у строителей кафеля на отделку не хватило. Строители вопрос решили просто: покрасили стены краской ядовитого синего цвета. Кафеля в свободной продаже не было, просто напросто не было! Ну не было!!! Как и все строительные материалы, он распределялся по фондам между стройками и предприятиями. Поэтому для личных нужд его надо было или «достать» или украсть. Вот строителям и не хватало на последние подъезды кафеля, линолеума и т.п.
Что делать? Окольными путями узнала, что у нас в конторе на складе есть оставшийся от ремонта туалетных комнат кафель. Буквально валялась в ногах у начальника Управления, упрашивая выписать мне этот кафель, говоря, что от этого зависит моя судьба. Оплатила накладную, вывезла плитку, нашла мастера. Всё! Кухня и ванна сияют голубым кафелем. Моя дочь привезла из Ленинграда обои (их ведь тоже не было в магазинах Архангельска). Всё сделали.
Вызвали из Ленинграда главную сторону соглашения по обмену – 72-х летнюю старушку–мать, которая кроме закопчённых тараканьих коммуналок ничего не видела. «Чистенько»- поджав губки сказала она и дала добро на обмен.
Ура! Первое препятствие преодолено!
Подали документы в квартирное бюро обмена города Архангельска. А это многочисленные справки, включая справку из психдиспансера. Всё оформили.
Полетели с Розой подавать документы в Ленинградское квартирное бюро.
Наши пожелания были такие: я остаюсь в Архангельске в однокомнатной квартире, дочь и внучка переезжают в Ленинград в комнату в коммуналке.
Как бы не так! В Ленинграде на таком пожелании сразу поставили крест. При междугородном обмене должна соблюдаться норма- 9 кв. метров на одного человека, а комната в коммуналке была всего 14 кв.метров. А это значит, что молодая мама с дочкой не имеют право на такой обмен.
Что делать? Второго такого варианта в жизни не найти. Раздумывать некогда, решаем: на Ленинград «меняюсь» я (хотя для меня это сплошные проблемы),
а дочь и внучка «остаются» в Архангельске. Для дочери это проще – она потом выедет для продолжения учёбы. А как быть мне? В Советском государстве человек должен жить там, где прописан!
Но главным препятствием было ещё и не это. Оказывается для переезда в Ленинград у меня должна быть веская причина. Тогда просто так в города Москва и Ленинград не прорвёшься. Я говорю, что в Ленинграде живёт жена и дочь моего сына – моряка дальнего плавания. На тот период это было действительно так. Мне отвечают, что для меня это не родственники! Потом, когда сын развёлся с женой, это так и оказалось, но тогда я была возмущена до глубины души.
Женщина в бюро обмена, видимо сжалилась над непутёвыми провинциалками и подсказала, что уважительной причиной переезда может считаться гарантийное письмо какой-нибудь Ленинградской организации, о том, что меня возьмут на работу при наличии ленинградской прописки.
Пошли с Розой на ткацкую фабрику, где она раньше работала. Со слезами Роза бросилась на колени перед кадровичкой, умоляя дать фиктивную гарантию.
« Да не реви, дам я вам гарантийное письмо.» А потом, обращаясь ко мне: « А какую должность вам написать в справке?» Я говорю, что мне всё равно, хоть ткачихой. Она даже испугалась:- «Что вы, на ткачиху же учиться надо!» Я, имея высшее образование, работая начальником отдела, почувствовала себя таким ничтожеством, что согласилась на экономиста, клятвенно заверив, что не буду претендовать на эту должность. Вожделенное гарантийное письмо получено.
Несём документы в квартирное бюро. Теперь всё в порядке! Приходите послезавтра за ордерами!
Послезавтра 1 апреля, а с 1 апреля оформление ордеров подорожало почти в 2 раза. Но разве это важно после всего пережитого.
После получения ордеров даётся 1 месяц, в течение которого мы все должны выписаться из прежних квартир и прописаться в новых. Возвращаемся в Архангельск. Ленинградцы выписались из своей ленинградской коммунальной комнаты и из однокомнатной квартирки в Архангельске, прописались в нашей двухкомнатной. Мои дочь с внучкой переехали в однокомнатную в Архангельске и прописались в ней. Выписалась и я из двухкомнатной квартиры, то есть и из Архангельска.
Началась моя одиссея. Поехала в Ленинград прописываться.
Прихожу к начальнику паспортного стола. Дама в мундире взяла паспорт, обменный ордер и требует предъявить трудовую книжку.
Как не разорвалось моё сердце! Ведь я не собиралась увольняться. Мне оставалось 2 года доработать до Северной пенсии.
Спасибо нашему законотворчеству, правая рука которого не ведает, что
творит левая! По трудовому законодательству в то время уволиться можно было только отработав 2 месяца после подачи заявления. А прописаться нам надо успеть в течение месяца.
Мямлю, что нет трудовой книжки, потому что отрабатываю 2 месяца.
-Ну вот, тогда и пропишетесь!
-Но тогда истечёт срок действия ордера.
-Ладно, только через 2 месяца принесёте мне все документы снова! (и делает
у себя в календаре отметку).
Так я попадаю на карандаш в органы милиции. Ощущение такое, что я преступница. Прописали меня в Ленинграде, но 2 месяца я жила в ожидании, что меня привлекут.
Итак, ситуация такая : я прописана в городе Ленинграде, но живу и работаю в Архангельске, что является злостным нарушением паспортного режима.
Всё-таки «наверху», на небе, кто-то нам благоволит. Город Архангельск с недавних пор приравнен к районам Крайнего Севера. Это даёт право тем, кто уезжает работать на этот Крайний Север (например, из Ленинграда в Архангельск), бронировать жильё там, откуда уезжаешь (то есть оставлять жильё за собой до возвращения с Севера).
Иду к начальнику своего управления в Архангельске и как на духу выкладываю ему суть «аферы». Начальник — мужчина, битый советской властью. Оформляем договор с просьбой забронировать за мной жильё в Ленинграде в связи с тем, что меня приглашают на работу в учреждение города Архангельска. С этим договором без проблем оформляю бронь на ленинградскую комнату. В эту же комнату без проблем прописывают и приехавшую ко мне одинокую дочь с ребёнком. Итак, двоих при прямом обмене прописать было нельзя, а троих теперь можно. Главная наша цель достигнута.
Я « уезжаю» работать на Крайний Север. Остаётся прописаться мне в квартире в Архангельске, откуда я и не выезжала. Но всё оказалось не так просто. Начальник районного паспортного стола проявила ненужную бдительность (или вымогала взятку) и прописала меня лишь временно, хотя одиноких родителей прописывают к детям безоговорочно. А прописка в то время нужна была не только для соблюдения паспортного режима, но и для получения талонов на продукты.
Прошло 3 года. Срок временной прописки кончился, а мегера в мундире опять предлагает мне только временную прописку: « Вот когда ваша дочь вернётся после окончания института, тогда к ней и пропишем постоянно».
Того и гляди, кто-то из нас останется без жилья. С отчаяния я решилась пойти к начальнику Областного паспортного стола. Никаких проблем. Виза: «Прописать постоянно». Наконец я вернула себе статус жителя города Архангельска.
Вот так, ценой тупой, порой противоправной, бессмысленной борьбы с бюрократизмом, в обход тупых законов, мы, наконец, сделали то, что диктовал нам здравый смысл и необходимость.
1988-1990 годы
Давали не квартиру, а ордер – документ на право вселения в квартиру. Один из членов семьи был «ответственным квартиросъёмщиком». Теперь мы чувствуем эту разницу, а тогда была только радость. На самом же деле эту квартиру нельзя было ни продать, ни передать по наследству тому, кто не прописан в ней. Прописать – тоже свои проблемы и условия. То есть квартира оставалась в собственности государства. Не буду вдаваться в тысячи мелочей. Каждый решал свои проблемы по-своему. Расскажу о своих.
Лично я получила благоустроенную двухкомнатную квартиру на 38-ом году жизни при переводе на новое место работы, как специалист.
Спустя 10 лет встал вопрос об обмене этой квартиры на жильё в г. Ленинграде, чтобы дочь могла продолжать образование, и квартиру в Архангельске, чтобы я могла доработать до пенсии.
Это было всего 30 лет назад, но ещё до развала СССР. Рыночные отношения в сфере недвижимости стали развиваться после 1990 года, а в 1988 году мы радовались, что существуют Бюро по обмену квартир, где сосредоточены все сведения по обмену квартир и там законно оформят обмен.
Подвернулся подходящий вариант: нашу 2-х комнатную квартиру жилой площадью 31 кв.метр , с большой кухней 9 кв. метров и большой лоджией обменять на маленькую однокомнатную квартирку в Архангельске и комнату в коммунальной квартире в городе Ленинграде. В сумме даже метраж жилой площади одинаков. Чего лучше? Но мы тогда жили в стране, где всё нельзя!
Итак, в обмене участвуют: с нашей стороны я, и моя взрослая дочь с маленьким ребёнком, с другой стороны – муж, жена и её престарелая мать.
Договорились с теми, кто меняется. Вдруг приходит Роза (основной двигатель этого обмена), вся в слезах и говорит, что её муж так мечтал, так мечтал, что на кухне и в ванной будет кафель, а без кафеля он не согласен. Дело в том, что в домах нашей серии по проекту полагается кафель, просто наш подъезд крайний и у строителей кафеля на отделку не хватило. Строители вопрос решили просто: покрасили стены краской ядовитого синего цвета. Кафеля в свободной продаже не было, просто напросто не было! Ну не было!!! Как и все строительные материалы, он распределялся по фондам между стройками и предприятиями. Поэтому для личных нужд его надо было или «достать» или украсть. Вот строителям и не хватало на последние подъезды кафеля, линолеума и т.п.
Что делать? Окольными путями узнала, что у нас в конторе на складе есть оставшийся от ремонта туалетных комнат кафель. Буквально валялась в ногах у начальника Управления, упрашивая выписать мне этот кафель, говоря, что от этого зависит моя судьба. Оплатила накладную, вывезла плитку, нашла мастера. Всё! Кухня и ванна сияют голубым кафелем. Моя дочь привезла из Ленинграда обои (их ведь тоже не было в магазинах Архангельска). Всё сделали.
Вызвали из Ленинграда главную сторону соглашения по обмену – 72-х летнюю старушку–мать, которая кроме закопчённых тараканьих коммуналок ничего не видела. «Чистенько»- поджав губки сказала она и дала добро на обмен.
Ура! Первое препятствие преодолено!
Подали документы в квартирное бюро обмена города Архангельска. А это многочисленные справки, включая справку из психдиспансера. Всё оформили.
Полетели с Розой подавать документы в Ленинградское квартирное бюро.
Наши пожелания были такие: я остаюсь в Архангельске в однокомнатной квартире, дочь и внучка переезжают в Ленинград в комнату в коммуналке.
Как бы не так! В Ленинграде на таком пожелании сразу поставили крест. При междугородном обмене должна соблюдаться норма- 9 кв. метров на одного человека, а комната в коммуналке была всего 14 кв.метров. А это значит, что молодая мама с дочкой не имеют право на такой обмен.
Что делать? Второго такого варианта в жизни не найти. Раздумывать некогда, решаем: на Ленинград «меняюсь» я (хотя для меня это сплошные проблемы),
а дочь и внучка «остаются» в Архангельске. Для дочери это проще – она потом выедет для продолжения учёбы. А как быть мне? В Советском государстве человек должен жить там, где прописан!
Но главным препятствием было ещё и не это. Оказывается для переезда в Ленинград у меня должна быть веская причина. Тогда просто так в города Москва и Ленинград не прорвёшься. Я говорю, что в Ленинграде живёт жена и дочь моего сына – моряка дальнего плавания. На тот период это было действительно так. Мне отвечают, что для меня это не родственники! Потом, когда сын развёлся с женой, это так и оказалось, но тогда я была возмущена до глубины души.
Женщина в бюро обмена, видимо сжалилась над непутёвыми провинциалками и подсказала, что уважительной причиной переезда может считаться гарантийное письмо какой-нибудь Ленинградской организации, о том, что меня возьмут на работу при наличии ленинградской прописки.
Пошли с Розой на ткацкую фабрику, где она раньше работала. Со слезами Роза бросилась на колени перед кадровичкой, умоляя дать фиктивную гарантию.
« Да не реви, дам я вам гарантийное письмо.» А потом, обращаясь ко мне: « А какую должность вам написать в справке?» Я говорю, что мне всё равно, хоть ткачихой. Она даже испугалась:- «Что вы, на ткачиху же учиться надо!» Я, имея высшее образование, работая начальником отдела, почувствовала себя таким ничтожеством, что согласилась на экономиста, клятвенно заверив, что не буду претендовать на эту должность. Вожделенное гарантийное письмо получено.
Несём документы в квартирное бюро. Теперь всё в порядке! Приходите послезавтра за ордерами!
Послезавтра 1 апреля, а с 1 апреля оформление ордеров подорожало почти в 2 раза. Но разве это важно после всего пережитого.
После получения ордеров даётся 1 месяц, в течение которого мы все должны выписаться из прежних квартир и прописаться в новых. Возвращаемся в Архангельск. Ленинградцы выписались из своей ленинградской коммунальной комнаты и из однокомнатной квартирки в Архангельске, прописались в нашей двухкомнатной. Мои дочь с внучкой переехали в однокомнатную в Архангельске и прописались в ней. Выписалась и я из двухкомнатной квартиры, то есть и из Архангельска.
Началась моя одиссея. Поехала в Ленинград прописываться.
Прихожу к начальнику паспортного стола. Дама в мундире взяла паспорт, обменный ордер и требует предъявить трудовую книжку.
Как не разорвалось моё сердце! Ведь я не собиралась увольняться. Мне оставалось 2 года доработать до Северной пенсии.
Спасибо нашему законотворчеству, правая рука которого не ведает, что
творит левая! По трудовому законодательству в то время уволиться можно было только отработав 2 месяца после подачи заявления. А прописаться нам надо успеть в течение месяца.
Мямлю, что нет трудовой книжки, потому что отрабатываю 2 месяца.
-Ну вот, тогда и пропишетесь!
-Но тогда истечёт срок действия ордера.
-Ладно, только через 2 месяца принесёте мне все документы снова! (и делает
у себя в календаре отметку).
Так я попадаю на карандаш в органы милиции. Ощущение такое, что я преступница. Прописали меня в Ленинграде, но 2 месяца я жила в ожидании, что меня привлекут.
Итак, ситуация такая : я прописана в городе Ленинграде, но живу и работаю в Архангельске, что является злостным нарушением паспортного режима.
Всё-таки «наверху», на небе, кто-то нам благоволит. Город Архангельск с недавних пор приравнен к районам Крайнего Севера. Это даёт право тем, кто уезжает работать на этот Крайний Север (например, из Ленинграда в Архангельск), бронировать жильё там, откуда уезжаешь (то есть оставлять жильё за собой до возвращения с Севера).
Иду к начальнику своего управления в Архангельске и как на духу выкладываю ему суть «аферы». Начальник — мужчина, битый советской властью. Оформляем договор с просьбой забронировать за мной жильё в Ленинграде в связи с тем, что меня приглашают на работу в учреждение города Архангельска. С этим договором без проблем оформляю бронь на ленинградскую комнату. В эту же комнату без проблем прописывают и приехавшую ко мне одинокую дочь с ребёнком. Итак, двоих при прямом обмене прописать было нельзя, а троих теперь можно. Главная наша цель достигнута.
Я « уезжаю» работать на Крайний Север. Остаётся прописаться мне в квартире в Архангельске, откуда я и не выезжала. Но всё оказалось не так просто. Начальник районного паспортного стола проявила ненужную бдительность (или вымогала взятку) и прописала меня лишь временно, хотя одиноких родителей прописывают к детям безоговорочно. А прописка в то время нужна была не только для соблюдения паспортного режима, но и для получения талонов на продукты.
Прошло 3 года. Срок временной прописки кончился, а мегера в мундире опять предлагает мне только временную прописку: « Вот когда ваша дочь вернётся после окончания института, тогда к ней и пропишем постоянно».
Того и гляди, кто-то из нас останется без жилья. С отчаяния я решилась пойти к начальнику Областного паспортного стола. Никаких проблем. Виза: «Прописать постоянно». Наконец я вернула себе статус жителя города Архангельска.
Вот так, ценой тупой, порой противоправной, бессмысленной борьбы с бюрократизмом, в обход тупых законов, мы, наконец, сделали то, что диктовал нам здравый смысл и необходимость.
1988-1990 годы
О тех, кто рядом, от тех кто рядом
И через семь дней – вот так мы мучились с ним: все в смоле – и руки, и ноги, и лицо – всё в смоле. И вот поезд прибывает на какой-то вокзал – мы абсолютно не поняли на какой, потому что мы лежим там, притаившись, потому что мы боимся, что нас найдут – как нас часовые не обнаружили! Он мне говорил: «Ты не высовывайся, а я буду ориентироваться». Ловкий был.
Приехали на вокзал, и я слышу – объявляют по репродуктору: «Последний состав приехал на вокзал». Может, как-то по-другому сказали, но я так запомнила: «Последний состав прибыл на Московский вокзал».
Когда она произнесла: «на Московский вокзал», мы с Лёней вообще обалдели. Мы не знали, куда нас привезли, думали, в какой город там, а тут - «на Московский вокзал».
Это было чудо, вот чудо – и всё. Мы выскочили с этих платформ – не знаем: что он приехал, что он привёз сюда – ну, такой большой состав, много открытых платформ и закрытые были вагоны. В общем, мы выскочили с платформ и бежим домой. На нас все оглядываются, потому что платье у меня в клочья, вся я в смоле, ну, Лёня тоже в смоле. Бежим на 8-ю Советскую, прибегаем домой - папа с мамой дома. Мама как увидела и тут же осела. Ей стало плохо, она как память потеряла. Она даже не понимала, что мы появились вот так вот. Хоть такие, но мы появились. Живые и здоровые. Грязные, да, она нас отмывала долго от этой смолы, отчищала, помню, чем-то. Прибыли мы в Ленинград, думаю, или конец июля, или начало августа, потому что в магазинах были ещё продукты, правда, уже не очень там их много было. Мать работала на каком-то заводе, сейчас не помню названия. У Казанского собора. Она повезла нас туда в столовую, раза два или три она возила нас туда. Я помню, мы ели, ели, ели с Лёней; и особенно там так оладьи мне понравились! Оладьи там были с вареньем – ложечка варенья.
Ну, в общем, мы ещё не успели отъестся, конечно, как восьмого сентября объявили, что Ленинград находится в блокаде. Восьмого сентября, а мы за август еще не успели наесться даже.
Ввели сразу карточки; карточки прикреплялись к каждому магазину. У нас на 8-й Советской был мясной магазин – мы туда прикреплялись – угол 8-й и Суворовского. Осенью всё же какие-то продукты ещё выдавались понемногу, но магазины быстро пустели. Осень мы как-то ещё продержались, а самое трудное время – это, конечно, декабрь, январь и февраль. Самые тяжёлые месяцы.
Лёня почему-то оказался в ремесленном училище, или он раньше там был или поступил в ремесленное – это я не знаю, а старший брат – ему было семнадцать лет ещё – он работал на Металлическом заводе. Это за Невой где-то там. В общем далеко. Металлический завод имени Сталина он назывался.
Ему было семнадцать лет, поэтому его ещё не взяли в армию. А отец у меня по специальности столяр и - у нас на кухне был станок, он на этом станке сделал всю мебель нам, домашнюю мебель – всё это его руки. И столы, и шкафы – всё это он делал сам. У него всегда было очень много клея, столярного клея – плиточки такие.
И когда уже были карточки, уже голодно было, ему завхоз говорит: «Иван Андреевич, возьми вот есть плиты такие, небольшие, спрессованного льняного семени. Ты возьми, может, пригодятся». Обычно они для лошадей, почему там они оказались – не знаю, но отец принёс таких плит много. Ну, вот всё, что у нас было в запасе. У матери был – она всегда любила - колотый сахар, может быть, килограмма два-три; ну, и, видимо, какое-то количество крупы удалось запасти.
Ну, мы с Лёней, помню в магазинах без конца в августе стояли. Немножко закупили на какое-то время.
А в декабре уже ничего не осталось, всё закончилось – семья большая, всё-таки пять человек. Но самое главное, что мы оказались в тепле, потому что отец успел заготовить дрова и у нас был полный сарай дров: уже напиленные и наколотые отцом.
Мы топили печку и у нас в комнате всегда было тепло. Всю зиму у нас было тепло, вот это нас ещё спасало.
Я не знаю, когда норму ввели; рабочие карточки были у отца и у матери – по 250 граммов, а моя, иждивенческая, по-моему, 125 граммов. Причём хлеб уже не был таким, как сейчас – он был чёрным, туда добавлялось всё, даже поговаривали, что бумагу перемалывали туда, потому что не хватало муки.
Особенно, когда разгромили Бадаевские склады, где хранилось очень много запасов продуктов. Разбомбили, немцы налетели.
А вот осенью ещё, я не сказала, очень много бросали зажигательные бомбы. И у нас старшие ребята, которые в армию ещё не пошли, все дежурили на чердаках. В наш дом не попали, слава Богу, а очень многие дома горели.
В декабре уже кушать было нечего – только вот этот хлеб. Лёня ходил в ремесленное, там им что-то давали. Ну, видимо, эту пайку хлеба и, может, какую-то баланду – он не говорил. Шурик, старший, то же самое. Пока был транспорт - ездил, а потом ходил на Металлический завод. Пешком ходил ежедневно. Рано утром вставал – туда шёл. В декабре уже Нева застыла – а были морозы страшные – и он ходил через Неву, сокращая дорогу, на завод, на работу. И там тоже им давали еду. Карточек им не давали, чтобы они там работали. На Металлическом – там военную продукцию производили.
И каждый день ходил. Истощённый ходил уже туда.
В декабре мать стала уже вымачивать плитки клея – как-то она их вымачивала и варила из них, по-нашему, холодец. Ну, то есть, застывал он как холодец. И туда она добавляла лавровый лист, чтобы отбить немножко это всё. Мы с мамой и Лёней могли это есть, а отец не мог. И Шурик не мог. Почему-то не могли они это есть. А мы с Лёней прекрасно вот эту дуранду – вот эти плиты назывались «дуранда»; её никак было не разъединить, она настолько сильно спрессована. Мы её клали в таз, и она не размокала даже. С большим трудом мы мягкие части отрывали – и ножом, и всяко – и ели. Втроём ели. Старший брат тоже пытался.
- Это же льняное семя?
- Льняное семя, да – плиты полностью.
Отец уже был слабый, уже лежал, уже за карточкой не мог идти. Отец умер где-то в начале января. От голода он умер.
Все покойников своих заворачивали в белую простынь, клали на санки и везли в Невскую лавру. Ну, и отца мы повезли. Уже много было, да. Оставляли уже. Люди ослабли, превратились в дистрофиков; оставляли на улицах – сил не было довезти до Лавры.
Мы вдвоём еле довезли отца туда. Там уже склады были; складывали – я хорошо помню – с левой стороны. И мы с Лёней поднимали его на этих покойников и туда положили. Просто, как раньше было, дрова складывали – вот так складывали покойников в Невской лавре. Ой, Господи.
Много уже покойников было, но мы всё равно прикреплялись к магазинам, к этим пустым магазинам. Я каждый день одевалась – надевала своё пальто, сверху надевала матери пальто, закутывалась в шапку, на ногах валенки, видно, были у меня; и вот мы шли часов в шесть или семь стоять в очереди в магазин, в надежде, что дадут что-нибудь по карточке. Я все эти месяцы ходила – и ничего по карточкам не давали. Магазины были пустые, а очередь всё равно стояла, большая очередь. Ну, люди хоть пообщаются, пока стоим там. Все три месяца ничего не было. Правда, хлеб выдавали аккуратно, очередей не было. Приходили в булочную – и слева, и справа стояли голодные подростки, и, если ты не успеешь взять свой хлеб с весов себе куда-то там – они у тебя выхватят. У меня такого не было – я уже знала.
Мать уже не выходила тоже, уже опухла, истощённая была. Вот только я ходила. Лёня уйдет в ремесленное к Смольному – ему легче, путь не далёкий, а вот старший потерял все силы. Ну-ка, уходить утром и вечером приходить обратно. В какой-то день пришёл парнишка к нам, нашёл нас - видимо, жил где-то недалеко, и говорит, что Саша скончался. «Ваш сын скончался». Мать так переживала. Упросила этого мальчика, чтобы он на следующий день за ней зашёл. Она выяснила, видно, что он недалеко живёт. Он за ней зашёл и она пошла проститься с сыном. Через Неву тоже шла. И я так переживала, что она не вернётся. Как она дошла - я не знаю, она уже истощённая была совершенно. Видимо, она с этим парнишкой туда дошла и обратно с ним же. Одной бы ей не дойти. Обратно пришла вся в слезах, вся в горе – ну, и мы переживали, что брата уже нет. Но как-то уже не так сильно, потому что знали, что уже все падают. Уже во дворе у нас пусто было; ни воды, ни электричества – ничего не было, канализация не работала давно, водопровод не работал. Выпадало много снега и во дворе были огромные сугробы – никто же не вычищал. И мы с Лёней выходили, разгребали немножко сверху и в кастрюли или вёдра набирали этот снег, топили его на печке или около печки. Потом у нас появилась буржуйка, купили, видимо. Буржуйки продавались – да и всё продавалось – только за кусок хлеба. Не знаю, как уж мать крутилась, но появилась буржуйка, потому что печка сжирала много дров, поэтому стали уже на буржуйке и снег топить, и чай кипятить, потому что больше ничего не было. Питались только вот этим клеем и вот этой дурандой. Мы с Лёней её целый день сосали, потому что она была настолько твёрдой, что не размокала почти. Но, видимо, она полезная – льняное семя всё-таки.
Шурик скончался где-то в феврале месяце, сразу после отца. Для мужчин, конечно, без еды – это невозможно. А мы дожили как-то до весны.
- А мама уже не работала?
- Нет, ни отец, ни мать уже не работали, они уже лежали.
Как-то мы дожили до марта, когда появилась крапива. Ну, там и полегче стало, потому что построили дорогу через Ладогу –«Дорогу жизни», и по ней уже пошли продукты. И, кажется, в марте стало что-то появляться по карточкам. Как появилась эта дорога – появились продукты. Хоть немного, но что-то. Мы с Лёней ездили на Малую Охту – Там кольцо делала десятка и там росло очень много крапивы. Крапива молодая.
И вот все туда хлынули – за крапивой, за лебедой. Мы с Лёней рвали крапиву и лебеду и варили суп. Крапива, лебеда и вода – больше в супе ничего не было.
А когда сезон подошёл – стали сажать. Не знаю, где семена люди брали, но все сады, все площадки – всё было засажено, всё было в грядках. Вся земля была занята грядками.
Вот так мы прожили сорок второй год. По карточкам появились кое-какие продукты. И мне запомнилась ещё одна картина интересная.
Мы же все немытые были. Как началась блокада, отключили воду, и все остались немытые. Всю зиму мы были немытые – до весны. И вот, наконец, открылась…Ну, когда-то тут объявили, что первый трамвай пошёл, когда-то электричество, когда-то появилась вода, из крана пошла – это для нас было счастье, конечно. И мне запомнилось – открыли баню. На Мытнинской, у нас до сих пор эти бани. Открыли один только класс. Поделили – одна половина - мужчины, одна половина – женщины. Мы вошли в мыльную. Уж не знаю, в начале мы были или в конце, но, когда мы вошли в баню – это ж было так непривычно, мы же когда были в последний раз – там нормальные все были – одни женщины. А тут, когда мы вошли в мыльную, куча людей – одни скелеты. Мужчины вообще – одни скелеты. И женщины тоже – одни дистрофики. Не было таких, чтоб были нормальные люди. И никого не стеснялись: мужчины ходили голые к этим кранам, и мы ходили, не обращали внимания. Но меня поразила эта картина, что ходили все – одни скелеты. Я тоже была тощая, но мне казалось, что я не была такой. И мать была, и я была дистрофиком – ну, тоже, наверное, была такая же.
Вот эта картинка у меня осталась, что все ходят, свободно, никто ни на кого не обращает внимания - мужчины на нас, мы на мужчин. Самое главное, что мы намылись.
Жизнь стала входить в нормальное русло. Карточка только у матери, рабочая. Получала как-то. Не знаю, но у неё была рабочая карточка всё время. А нет, вспомнила как.
Над нами жил Славнов Саша. Он стал директором фабрики Бебеля, кожгалантерейной фабрики Бебеля. Мать обратилась к нему с просьбой, чтобы он её устроил хоть кем-то. Мать без образования особо, она говорит: «Я и уборщицей готова». Но она и не могла на машине работать, это потом уже.
«Саша, устрой меня, пожалуйста, хотя бы уборщицей, чтобы у меня была рабочая карточка». Он её устроил уборщицей. Она получила рабочую, а у меня опять иждивенческая карточка. Продуктов ещё было недостаточно, конечно, всё равно ещё голод нас одолевал. А мне было тринадцать лет, ещё не было четырнадцати в сорок втором году, потому что мне четырнадцать только в сентябре, а это было начало лета. Она говорит: «Саша, ну, как-нибудь Тамару устрой, ну, хоть кем-то». А электричества, видно было, ещё недостаточно, или не было вообще, я не помню. И он меня устроил.
Огромный цех – шили всё для военных, для фронта. Шили палатки, плащи военные, шили рукавицы на фабрике Бебеля – кожгалантереи там никакой не было. Он меня устроил крутильщицей, такая специальность была. Женщины шили, а электричества не было – и мы крутили эти машины, чтобы они шили. До чего уставала рука, но я работала. Работала крутильщицей длительное время. Потом нас в каком-то году, видимо, в сорок третьем, когда уже стало получше, уже дали электричество, уже не требовались крутильщицы - и нас объединили – где-то там, наверху, цех был, помню, и нас, подростков - большинство девчонки были – объединили, чтобы учить на футлярщиц. То есть шить кошельки, портмоне, портфели, сумки. Стали учить этому делу. Помню, зимой сидим – материала-то нет. Так и сидим.
Но главное, что на этой фабрике была школа рабочей молодёжи. Я до войны закончила пять классов. В этой школе рабочей молодёжи я закончила шестой и седьмой класс. И в сорок пятом году я поступила в педагогическое училище Некрасова на Звенигородской улице, закончила его. Потом заочно закончила институт Герцена. Проработала я в школе сорок лет.
Рассказ вела Тимченко Тамара Ивановна, блокадница. Мне девяносто лет. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Очень большое внимание сейчас со стороны властей. И Путин присылает поздравления всё время. И сейчас поздравил. И из Администрации поздравления, и от муниципалов.
Вот так и закончилась эта история.
Приехали на вокзал, и я слышу – объявляют по репродуктору: «Последний состав приехал на вокзал». Может, как-то по-другому сказали, но я так запомнила: «Последний состав прибыл на Московский вокзал».
Когда она произнесла: «на Московский вокзал», мы с Лёней вообще обалдели. Мы не знали, куда нас привезли, думали, в какой город там, а тут - «на Московский вокзал».
Это было чудо, вот чудо – и всё. Мы выскочили с этих платформ – не знаем: что он приехал, что он привёз сюда – ну, такой большой состав, много открытых платформ и закрытые были вагоны. В общем, мы выскочили с платформ и бежим домой. На нас все оглядываются, потому что платье у меня в клочья, вся я в смоле, ну, Лёня тоже в смоле. Бежим на 8-ю Советскую, прибегаем домой - папа с мамой дома. Мама как увидела и тут же осела. Ей стало плохо, она как память потеряла. Она даже не понимала, что мы появились вот так вот. Хоть такие, но мы появились. Живые и здоровые. Грязные, да, она нас отмывала долго от этой смолы, отчищала, помню, чем-то. Прибыли мы в Ленинград, думаю, или конец июля, или начало августа, потому что в магазинах были ещё продукты, правда, уже не очень там их много было. Мать работала на каком-то заводе, сейчас не помню названия. У Казанского собора. Она повезла нас туда в столовую, раза два или три она возила нас туда. Я помню, мы ели, ели, ели с Лёней; и особенно там так оладьи мне понравились! Оладьи там были с вареньем – ложечка варенья.
Ну, в общем, мы ещё не успели отъестся, конечно, как восьмого сентября объявили, что Ленинград находится в блокаде. Восьмого сентября, а мы за август еще не успели наесться даже.
Ввели сразу карточки; карточки прикреплялись к каждому магазину. У нас на 8-й Советской был мясной магазин – мы туда прикреплялись – угол 8-й и Суворовского. Осенью всё же какие-то продукты ещё выдавались понемногу, но магазины быстро пустели. Осень мы как-то ещё продержались, а самое трудное время – это, конечно, декабрь, январь и февраль. Самые тяжёлые месяцы.
Лёня почему-то оказался в ремесленном училище, или он раньше там был или поступил в ремесленное – это я не знаю, а старший брат – ему было семнадцать лет ещё – он работал на Металлическом заводе. Это за Невой где-то там. В общем далеко. Металлический завод имени Сталина он назывался.
Ему было семнадцать лет, поэтому его ещё не взяли в армию. А отец у меня по специальности столяр и - у нас на кухне был станок, он на этом станке сделал всю мебель нам, домашнюю мебель – всё это его руки. И столы, и шкафы – всё это он делал сам. У него всегда было очень много клея, столярного клея – плиточки такие.
И когда уже были карточки, уже голодно было, ему завхоз говорит: «Иван Андреевич, возьми вот есть плиты такие, небольшие, спрессованного льняного семени. Ты возьми, может, пригодятся». Обычно они для лошадей, почему там они оказались – не знаю, но отец принёс таких плит много. Ну, вот всё, что у нас было в запасе. У матери был – она всегда любила - колотый сахар, может быть, килограмма два-три; ну, и, видимо, какое-то количество крупы удалось запасти.
Ну, мы с Лёней, помню в магазинах без конца в августе стояли. Немножко закупили на какое-то время.
А в декабре уже ничего не осталось, всё закончилось – семья большая, всё-таки пять человек. Но самое главное, что мы оказались в тепле, потому что отец успел заготовить дрова и у нас был полный сарай дров: уже напиленные и наколотые отцом.
Мы топили печку и у нас в комнате всегда было тепло. Всю зиму у нас было тепло, вот это нас ещё спасало.
Я не знаю, когда норму ввели; рабочие карточки были у отца и у матери – по 250 граммов, а моя, иждивенческая, по-моему, 125 граммов. Причём хлеб уже не был таким, как сейчас – он был чёрным, туда добавлялось всё, даже поговаривали, что бумагу перемалывали туда, потому что не хватало муки.
Особенно, когда разгромили Бадаевские склады, где хранилось очень много запасов продуктов. Разбомбили, немцы налетели.
А вот осенью ещё, я не сказала, очень много бросали зажигательные бомбы. И у нас старшие ребята, которые в армию ещё не пошли, все дежурили на чердаках. В наш дом не попали, слава Богу, а очень многие дома горели.
В декабре уже кушать было нечего – только вот этот хлеб. Лёня ходил в ремесленное, там им что-то давали. Ну, видимо, эту пайку хлеба и, может, какую-то баланду – он не говорил. Шурик, старший, то же самое. Пока был транспорт - ездил, а потом ходил на Металлический завод. Пешком ходил ежедневно. Рано утром вставал – туда шёл. В декабре уже Нева застыла – а были морозы страшные – и он ходил через Неву, сокращая дорогу, на завод, на работу. И там тоже им давали еду. Карточек им не давали, чтобы они там работали. На Металлическом – там военную продукцию производили.
И каждый день ходил. Истощённый ходил уже туда.
В декабре мать стала уже вымачивать плитки клея – как-то она их вымачивала и варила из них, по-нашему, холодец. Ну, то есть, застывал он как холодец. И туда она добавляла лавровый лист, чтобы отбить немножко это всё. Мы с мамой и Лёней могли это есть, а отец не мог. И Шурик не мог. Почему-то не могли они это есть. А мы с Лёней прекрасно вот эту дуранду – вот эти плиты назывались «дуранда»; её никак было не разъединить, она настолько сильно спрессована. Мы её клали в таз, и она не размокала даже. С большим трудом мы мягкие части отрывали – и ножом, и всяко – и ели. Втроём ели. Старший брат тоже пытался.
- Это же льняное семя?
- Льняное семя, да – плиты полностью.
Отец уже был слабый, уже лежал, уже за карточкой не мог идти. Отец умер где-то в начале января. От голода он умер.
Все покойников своих заворачивали в белую простынь, клали на санки и везли в Невскую лавру. Ну, и отца мы повезли. Уже много было, да. Оставляли уже. Люди ослабли, превратились в дистрофиков; оставляли на улицах – сил не было довезти до Лавры.
Мы вдвоём еле довезли отца туда. Там уже склады были; складывали – я хорошо помню – с левой стороны. И мы с Лёней поднимали его на этих покойников и туда положили. Просто, как раньше было, дрова складывали – вот так складывали покойников в Невской лавре. Ой, Господи.
Много уже покойников было, но мы всё равно прикреплялись к магазинам, к этим пустым магазинам. Я каждый день одевалась – надевала своё пальто, сверху надевала матери пальто, закутывалась в шапку, на ногах валенки, видно, были у меня; и вот мы шли часов в шесть или семь стоять в очереди в магазин, в надежде, что дадут что-нибудь по карточке. Я все эти месяцы ходила – и ничего по карточкам не давали. Магазины были пустые, а очередь всё равно стояла, большая очередь. Ну, люди хоть пообщаются, пока стоим там. Все три месяца ничего не было. Правда, хлеб выдавали аккуратно, очередей не было. Приходили в булочную – и слева, и справа стояли голодные подростки, и, если ты не успеешь взять свой хлеб с весов себе куда-то там – они у тебя выхватят. У меня такого не было – я уже знала.
Мать уже не выходила тоже, уже опухла, истощённая была. Вот только я ходила. Лёня уйдет в ремесленное к Смольному – ему легче, путь не далёкий, а вот старший потерял все силы. Ну-ка, уходить утром и вечером приходить обратно. В какой-то день пришёл парнишка к нам, нашёл нас - видимо, жил где-то недалеко, и говорит, что Саша скончался. «Ваш сын скончался». Мать так переживала. Упросила этого мальчика, чтобы он на следующий день за ней зашёл. Она выяснила, видно, что он недалеко живёт. Он за ней зашёл и она пошла проститься с сыном. Через Неву тоже шла. И я так переживала, что она не вернётся. Как она дошла - я не знаю, она уже истощённая была совершенно. Видимо, она с этим парнишкой туда дошла и обратно с ним же. Одной бы ей не дойти. Обратно пришла вся в слезах, вся в горе – ну, и мы переживали, что брата уже нет. Но как-то уже не так сильно, потому что знали, что уже все падают. Уже во дворе у нас пусто было; ни воды, ни электричества – ничего не было, канализация не работала давно, водопровод не работал. Выпадало много снега и во дворе были огромные сугробы – никто же не вычищал. И мы с Лёней выходили, разгребали немножко сверху и в кастрюли или вёдра набирали этот снег, топили его на печке или около печки. Потом у нас появилась буржуйка, купили, видимо. Буржуйки продавались – да и всё продавалось – только за кусок хлеба. Не знаю, как уж мать крутилась, но появилась буржуйка, потому что печка сжирала много дров, поэтому стали уже на буржуйке и снег топить, и чай кипятить, потому что больше ничего не было. Питались только вот этим клеем и вот этой дурандой. Мы с Лёней её целый день сосали, потому что она была настолько твёрдой, что не размокала почти. Но, видимо, она полезная – льняное семя всё-таки.
Шурик скончался где-то в феврале месяце, сразу после отца. Для мужчин, конечно, без еды – это невозможно. А мы дожили как-то до весны.
- А мама уже не работала?
- Нет, ни отец, ни мать уже не работали, они уже лежали.
Как-то мы дожили до марта, когда появилась крапива. Ну, там и полегче стало, потому что построили дорогу через Ладогу –«Дорогу жизни», и по ней уже пошли продукты. И, кажется, в марте стало что-то появляться по карточкам. Как появилась эта дорога – появились продукты. Хоть немного, но что-то. Мы с Лёней ездили на Малую Охту – Там кольцо делала десятка и там росло очень много крапивы. Крапива молодая.
И вот все туда хлынули – за крапивой, за лебедой. Мы с Лёней рвали крапиву и лебеду и варили суп. Крапива, лебеда и вода – больше в супе ничего не было.
А когда сезон подошёл – стали сажать. Не знаю, где семена люди брали, но все сады, все площадки – всё было засажено, всё было в грядках. Вся земля была занята грядками.
Вот так мы прожили сорок второй год. По карточкам появились кое-какие продукты. И мне запомнилась ещё одна картина интересная.
Мы же все немытые были. Как началась блокада, отключили воду, и все остались немытые. Всю зиму мы были немытые – до весны. И вот, наконец, открылась…Ну, когда-то тут объявили, что первый трамвай пошёл, когда-то электричество, когда-то появилась вода, из крана пошла – это для нас было счастье, конечно. И мне запомнилось – открыли баню. На Мытнинской, у нас до сих пор эти бани. Открыли один только класс. Поделили – одна половина - мужчины, одна половина – женщины. Мы вошли в мыльную. Уж не знаю, в начале мы были или в конце, но, когда мы вошли в баню – это ж было так непривычно, мы же когда были в последний раз – там нормальные все были – одни женщины. А тут, когда мы вошли в мыльную, куча людей – одни скелеты. Мужчины вообще – одни скелеты. И женщины тоже – одни дистрофики. Не было таких, чтоб были нормальные люди. И никого не стеснялись: мужчины ходили голые к этим кранам, и мы ходили, не обращали внимания. Но меня поразила эта картина, что ходили все – одни скелеты. Я тоже была тощая, но мне казалось, что я не была такой. И мать была, и я была дистрофиком – ну, тоже, наверное, была такая же.
Вот эта картинка у меня осталась, что все ходят, свободно, никто ни на кого не обращает внимания - мужчины на нас, мы на мужчин. Самое главное, что мы намылись.
Жизнь стала входить в нормальное русло. Карточка только у матери, рабочая. Получала как-то. Не знаю, но у неё была рабочая карточка всё время. А нет, вспомнила как.
Над нами жил Славнов Саша. Он стал директором фабрики Бебеля, кожгалантерейной фабрики Бебеля. Мать обратилась к нему с просьбой, чтобы он её устроил хоть кем-то. Мать без образования особо, она говорит: «Я и уборщицей готова». Но она и не могла на машине работать, это потом уже.
«Саша, устрой меня, пожалуйста, хотя бы уборщицей, чтобы у меня была рабочая карточка». Он её устроил уборщицей. Она получила рабочую, а у меня опять иждивенческая карточка. Продуктов ещё было недостаточно, конечно, всё равно ещё голод нас одолевал. А мне было тринадцать лет, ещё не было четырнадцати в сорок втором году, потому что мне четырнадцать только в сентябре, а это было начало лета. Она говорит: «Саша, ну, как-нибудь Тамару устрой, ну, хоть кем-то». А электричества, видно было, ещё недостаточно, или не было вообще, я не помню. И он меня устроил.
Огромный цех – шили всё для военных, для фронта. Шили палатки, плащи военные, шили рукавицы на фабрике Бебеля – кожгалантереи там никакой не было. Он меня устроил крутильщицей, такая специальность была. Женщины шили, а электричества не было – и мы крутили эти машины, чтобы они шили. До чего уставала рука, но я работала. Работала крутильщицей длительное время. Потом нас в каком-то году, видимо, в сорок третьем, когда уже стало получше, уже дали электричество, уже не требовались крутильщицы - и нас объединили – где-то там, наверху, цех был, помню, и нас, подростков - большинство девчонки были – объединили, чтобы учить на футлярщиц. То есть шить кошельки, портмоне, портфели, сумки. Стали учить этому делу. Помню, зимой сидим – материала-то нет. Так и сидим.
Но главное, что на этой фабрике была школа рабочей молодёжи. Я до войны закончила пять классов. В этой школе рабочей молодёжи я закончила шестой и седьмой класс. И в сорок пятом году я поступила в педагогическое училище Некрасова на Звенигородской улице, закончила его. Потом заочно закончила институт Герцена. Проработала я в школе сорок лет.
Рассказ вела Тимченко Тамара Ивановна, блокадница. Мне девяносто лет. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Очень большое внимание сейчас со стороны властей. И Путин присылает поздравления всё время. И сейчас поздравил. И из Администрации поздравления, и от муниципалов.
Вот так и закончилась эта история.
Когда пришел домой, мать была не довольна моему приходу и в первое же лето порядила меня в пастухи на овец в дер. Суминское за 7 руб. в лето. Я плакал не хотел идти в пастухи. После такой почетной работы как например читать в церкви часы и шестопсалмие, носить нарядную ризу – стихарь. Обедать за чистым столом и хорошие обеды, подавать посох игумену. Быть любящим всеми среди монахов. Учился отлично. Окончил школу с похвальным листом и вдруг после всего такого хорошего идти на унижение всей деревни – пастухом. Однако ослушаться матери я не смел и целое лето пас овец. Обедал у крестьян поочерёдно. У кого сколько овец-маток у того крестьянина столько дней и живу, обедаю, ужинаю, ношу их рубаху и штаны и спать иду к ним также поочередно. У кого не было своих детей, там давали мне рубаху с мужика и ходил бывало по полю, размахивая рукавами на овец.
Летом к моему стаду пристал чужой деревни баран. По окончании лета мужики собрали сходку и на сходке решили отдать этого барана мне за то, что хорошо пас их овец. Получил деньги 7 руб. и одного барана. Я снова пришел к бабушке Ксении в дер. Редемское. Барана зарезали на мясо и съели. Деньги отдал бабушке на сбережение. На зиму меня мать свела в гор. Рыбинск и определила меня учеником на 4 года в слесарную мастерскую к частному мастеру-еврею, Блехману. Там я работал разную работу и возил на санках железные кровати в магазин на продажу. Кровати делали с вензелями, замки, ружья. Паяли и лудили самовары. Словом, мастерская была универсальная, делали жестяные работы – фонари уличные, лампы и кружки. Не знаю какой был бы из этого дела толк, но вот пришел ко мне дядя Матвей «писарь» и вызвал меня в уборную и спросил: Ну каково Павлуша тебе живется? Может быть плохо? Я ему рассказал, что руки у меня побиты при работе с зубилом, сшибая заусеницы, после сверловки, сшиб коготки до крови, да отморозил уши, ездивши на санках по магазинам. Санки, нагруженные железом, везти тяжело и холодно. Словом, жить плохо. Выслушал меня дядя Матвей и говорит – пойдем домой. Я ему говорю: а бабушка меня не заругает? Он и говорит: меня она сама прислала к тебе, узнать, как ты живешь и чему ты учишься. И, если плохо, то взять тебя с собой и привести домой. Я обрадовался и вместе с дядей Матвеем пошел пешком домой. Расстояние от Рыбинска до дер. Редемское 90 верст. Пришел домой. Написали письмо дяде Андрею в гор. Гатчино, в котором просили взять меня к нему и определить в сапожную мастерскую - учеником. Это ремесло годное в городе и в деревне. А учиться делать железные кровати бабушка считала ни к чему и пример приводила такой: Вот я век прожила на деревянной кровати, спала на полатях, в железной кровати не нуждалась и учиться этому ремеслу ни к чему.
В 1897 году я уехал на поезде в гор. Гатчино. Деньги на билет 5 руб. дала бабушка. Это были те деньги, что я получил за пастушество. В Гатчино дядя Андрей меня отдал в сапожную мастерскую к немецкому мастеру Ульриху в мальчики учеником сроком на4 года. Учился я всего 3 года и с разрешения дяди Андрея ушел и поступил к другому мастеру доучиваться, но тот подержал меня один месяц и сказал, чтобы сделать из меня мастера сапожного дела, так надо учиться еще 3 года. Дядя не согласился на это и отправил меня обратно в деревню. Это было в 1900 году мне было уже 15 лет. Несколько слов о жизни в сапожной мастерской. Работали с 6 часов утра и до 11-12 часов ночи еженедельно, кроме воскресенья. Кормили: утром 1 стакан чая и бутерброд; в обед: суп, каша или жаренная картошка досыта; днем 1 стакан чая; на ужин – 1 стакан чая и бутерброд с хлебом. Перед Рождеством и Пасхой работали по две и три ночи подряд не спавши. Были случаи задремлешь от переутомления, то хозяин тут же делал расправу – бил голенищем или шпандырем по спине. Спал в мастерской на кровати, а летом на чердаке над сараями. У хозяина были дети: дочери Юлия и Катя и мальчик – сын Михаил мне ровесник, учился он в городском училище. Моя была обязанность чистить им сапоги, а Мишку провожать по вечерам в уборную. Он сидит на горшке, а я должен был стоять и ждать его для того, чтобы вместе с ним идти домой. Сперва это мне было обидно и противно, а потом мы с ним подружились и много делали разных проказ. Помню, как Мишка вызвал меня проводить его в уборную. Я. По обыкновению, встал с липки и пошел с ним в уборную. Уборная была несмывная. Пришли мы с ним в уборную, а он вынимает полбутылки водки и кусок колбасы из-за пазухи, откупоривает полбутылки, пьет немного сам прямо из горлышка и дает пить мне, и мы с ним вдвоем выпили эту водку. Я пришел в мастерскую и сел на липку работать - чинить сапоги, а Мишка пришел к себе в комнату и учить уроки не смог, лег на постель, его стало рвать. Мать Мишки, Александра Павловна, вначале испугалась, что ее сын заболел, а потом почувствовала, что от рвоты и от Мишки несет запах водки. Она прибежала в мастерскую ко мне и спрашивает – Павлушка, ты напоил Мишку водкой? Я ей говорю – Нет я его не поил и сам водки не пил. Тогда она говорит - Ты с ним ходил в уборную и там, наверное, вы оба пили водку. Я ей говорю, - Нет я водку не пил, если бы я пил, так я был бы пьян и меня, возможно, тоже рвало бы, как и Мишку, но я вот сижу и работаю. Про Мишку я так и не сказал.
Во дворе дома были склады – сараи, занятые овощами и огурцами свежими. Мишка бегает по двору и все видит и знает. Что привозят в сарай и куда складывают. Вот один раз Мишка приходит ко мне в мастерскую, приносит длинную палку и говорит мне: Павлушка, вбей цвик (гвоздь железный для затяжки сапог) в конец палки. Привезли много кульков рогожных со свежими огурцами и некоторые из них расшиты и стоят недалеко от подворотни. Я зацеплю кулек гвоздем, что будет прибит к палке, кулек опрокину, огурцы посыплются к подворотне я их наберу и тебе дам. Я прибил ему цвик в конец этой палки длинной, и он пошел с ней на добычу. Через несколько минут Мишка вбегает в мастерскую увидел, что его отца нет и вынимает из-за пазухи много свежих огурцов, которые мы с ним и ели досыта. Или еще такой случай. У матери Мишкиной, моей хозяйки Александры Павловны, была браслетка из серебряных пятачков. Мишка опроворил это дело и стал снимать с браслета по пятачку монета за монетой. Принесет монету пятачок ко мне в мастерскую - здесь мы с ним острогубцами откусим серебряное ушко, малость подзапилим подпилком, чтобы не было следа от ушка, и Мишка уходит в лавочку, приносит гостинцев и меня угостит; и так Мишка постепенно, монета за монетой, разобрал браслетку его матери. Мать спохватилась, но было уже поздно: от браслета оставался только один скелет – остов-основание, а монет уже не было пятачковых. Она догадалась, подняла шум, но Мишки в это время дома не было. Как только я увидел Мишку, то сразу ему рассказал, что его ожидает порка. Мишка пошел во двор, нашел там мягкую проволоку и обвил проволоку по верху брюк, на поясе вместо ремня. Когда мать увидела Мишку начала его ругать. Он не сознавался, что перетаскал все пятачки с ее браслетки. Мать хотела Мишке всыпать ремня по голой заднице, но снять брюк с него не смогла, так как брюки были опоясаны проволокой. Мать, конечно, поняла, что Мишки подготовил себя к бою, потому что ему сообщил об этом я.
Хотя и дружил сын хозяина – Мишка со мной, однако, я чувствовал какую-то обиду на то, что Мишка учится в городском 5-ти классном училище, а я учусь быть сапожником.
В доме, где я учился сапожному делу, была мелочная лавочка и хлебопекарня Рябининых. Это угольный дом по Богоутовской ул. и Глухого переулка. Вот один раз помню производили ремонт магазина - кое-какие напитки, как, например, лимонад, сельтерская вода, клюквенный квас и другие, были вынесены в подвальное помещение. Мишка, гуляя по двору, увидел это, залез через окно в подвал и вытащил оттуда несколько бутылок с клюквенным квасом и сельтерской водой. Украденное ему некуда было деть, и он принес ко мне в мастерскую и спрятал под мою кровать. Захотелось мне квасу попить. Я залез к себе под кровать, а в это время пришла хозяйка и увидела под кроватью меня и бутылки с квасом, сказала ли она об этом хозяину - не помню, но меня она крепко отругала, и я не знал, что мне делать: говорить ли, что это бутылки не мои, а Мишкины, или нет. Дело обошлось благополучно. Она от хозяина скрыла, и я про ее сына Мишку никому ничего не рассказал.
Учился я в этой мастерской 3 года. Хозяин был немец сердитый, а хозяйка русская и добрая. По воскресеньям меня отпускали в гости к дяде Андрею Антонову. Там я иногда и ночевал. У дяди было 5 детей: сын Андрей, старше меня, сын Петр, Федор, Сергей и дочь Мария младше меня. Андрей тоже учился в сапожной мастерской у Блинова и работал дома, чинил сапоги своей семье.
Тетушка Ульяна Ильинична иногда наговаривала на меня дяде Андрею, что будто бы я взял самовольно и съел сладкие булочки, оставленные ею для маленькой ее дочери Марии. Дядя меня отругал и грозил мне тем, что он не будет меня пускать в семью.
Летом у хозяина спали мы на чердаке над конюшней. Хозяин приходил нас будить. Поднимется по приставной лестнице к дверям и кричит: Колька, Павлушка, вставайте!!! Был такой случая: я проснулся на крик хозяина первым, и я начал будить мальчика Кольку, который был старше меня. Колька не просыпался. Я побудил, побудил его и сам снова уснул. Хозяин пришел будить нас вторично со шпандырем (круглый ремень, при помощи которого сапог прижимают к коленям, чтобы удобно было пришивать или приколачивать подметки к сапогам). Влез на чердак и с криком, вставайте, начал этим ремнем пороть меня. Я вскочил от сна и кубарем прыгнул с чердака на землю. Летом работы у хозяина было много, а главное было много починки сапог. Это самое выгодное для хозяина. Хозяин и нас двое мальчиков-учеников работали по починке обуви, а двое мастеров шили новые дамские и мужские сапоги. Зимой дачники из Гатчины уезжали в Петербург и у нас было затишье в работе. Хозяин и нас два мальчика воровали дрова, длинные поленья от хлебопекарни. Ночью наносим в мастерскую, сложим под нашу кровать, а днем двери мастерской хозяин запирал на крючок, и мы пилили эти дрова на три полена каждое, на колодку. Голенище было широкое и колодка на мою ногу почти вся утонула в голенище. Получился сапог с широким голенищем и маленьким чуть заметным носком. Это примерно, как брюки клеш у матроса, закрывают весь ботинок и иногда из-под клеша чуть-чуть видно носок ботинка. Я увидел, что под руководством бабушки у меня ничего не получится и поступил во вновь организованную сапожную мастерскую в село Прозорово к купцу Белякову. «Леше кореляку» шить новые женские полусапожки на продажу. В магазине зарплата была 3 руб. в месяц. Питание хозяйское. Жил тоже у него в доме без оплаты за квартиру. Проработал я у него месяца 3. Потом уехал в г. Рыбинск.
Моя мать мне рассказала, что Живетьевские ребята, мои ровесники, работают где-то в Рыбинске: Семен Хмелев, Василий Шилов, Тимоха Шилов и Зуев Павлуха и зарабатывают по 8, 9 и 10 руб. в месяц, т.е. почти в 3 раза больше моего.
Что меня и соблазнило.
Летом к моему стаду пристал чужой деревни баран. По окончании лета мужики собрали сходку и на сходке решили отдать этого барана мне за то, что хорошо пас их овец. Получил деньги 7 руб. и одного барана. Я снова пришел к бабушке Ксении в дер. Редемское. Барана зарезали на мясо и съели. Деньги отдал бабушке на сбережение. На зиму меня мать свела в гор. Рыбинск и определила меня учеником на 4 года в слесарную мастерскую к частному мастеру-еврею, Блехману. Там я работал разную работу и возил на санках железные кровати в магазин на продажу. Кровати делали с вензелями, замки, ружья. Паяли и лудили самовары. Словом, мастерская была универсальная, делали жестяные работы – фонари уличные, лампы и кружки. Не знаю какой был бы из этого дела толк, но вот пришел ко мне дядя Матвей «писарь» и вызвал меня в уборную и спросил: Ну каково Павлуша тебе живется? Может быть плохо? Я ему рассказал, что руки у меня побиты при работе с зубилом, сшибая заусеницы, после сверловки, сшиб коготки до крови, да отморозил уши, ездивши на санках по магазинам. Санки, нагруженные железом, везти тяжело и холодно. Словом, жить плохо. Выслушал меня дядя Матвей и говорит – пойдем домой. Я ему говорю: а бабушка меня не заругает? Он и говорит: меня она сама прислала к тебе, узнать, как ты живешь и чему ты учишься. И, если плохо, то взять тебя с собой и привести домой. Я обрадовался и вместе с дядей Матвеем пошел пешком домой. Расстояние от Рыбинска до дер. Редемское 90 верст. Пришел домой. Написали письмо дяде Андрею в гор. Гатчино, в котором просили взять меня к нему и определить в сапожную мастерскую - учеником. Это ремесло годное в городе и в деревне. А учиться делать железные кровати бабушка считала ни к чему и пример приводила такой: Вот я век прожила на деревянной кровати, спала на полатях, в железной кровати не нуждалась и учиться этому ремеслу ни к чему.
В 1897 году я уехал на поезде в гор. Гатчино. Деньги на билет 5 руб. дала бабушка. Это были те деньги, что я получил за пастушество. В Гатчино дядя Андрей меня отдал в сапожную мастерскую к немецкому мастеру Ульриху в мальчики учеником сроком на4 года. Учился я всего 3 года и с разрешения дяди Андрея ушел и поступил к другому мастеру доучиваться, но тот подержал меня один месяц и сказал, чтобы сделать из меня мастера сапожного дела, так надо учиться еще 3 года. Дядя не согласился на это и отправил меня обратно в деревню. Это было в 1900 году мне было уже 15 лет. Несколько слов о жизни в сапожной мастерской. Работали с 6 часов утра и до 11-12 часов ночи еженедельно, кроме воскресенья. Кормили: утром 1 стакан чая и бутерброд; в обед: суп, каша или жаренная картошка досыта; днем 1 стакан чая; на ужин – 1 стакан чая и бутерброд с хлебом. Перед Рождеством и Пасхой работали по две и три ночи подряд не спавши. Были случаи задремлешь от переутомления, то хозяин тут же делал расправу – бил голенищем или шпандырем по спине. Спал в мастерской на кровати, а летом на чердаке над сараями. У хозяина были дети: дочери Юлия и Катя и мальчик – сын Михаил мне ровесник, учился он в городском училище. Моя была обязанность чистить им сапоги, а Мишку провожать по вечерам в уборную. Он сидит на горшке, а я должен был стоять и ждать его для того, чтобы вместе с ним идти домой. Сперва это мне было обидно и противно, а потом мы с ним подружились и много делали разных проказ. Помню, как Мишка вызвал меня проводить его в уборную. Я. По обыкновению, встал с липки и пошел с ним в уборную. Уборная была несмывная. Пришли мы с ним в уборную, а он вынимает полбутылки водки и кусок колбасы из-за пазухи, откупоривает полбутылки, пьет немного сам прямо из горлышка и дает пить мне, и мы с ним вдвоем выпили эту водку. Я пришел в мастерскую и сел на липку работать - чинить сапоги, а Мишка пришел к себе в комнату и учить уроки не смог, лег на постель, его стало рвать. Мать Мишки, Александра Павловна, вначале испугалась, что ее сын заболел, а потом почувствовала, что от рвоты и от Мишки несет запах водки. Она прибежала в мастерскую ко мне и спрашивает – Павлушка, ты напоил Мишку водкой? Я ей говорю – Нет я его не поил и сам водки не пил. Тогда она говорит - Ты с ним ходил в уборную и там, наверное, вы оба пили водку. Я ей говорю, - Нет я водку не пил, если бы я пил, так я был бы пьян и меня, возможно, тоже рвало бы, как и Мишку, но я вот сижу и работаю. Про Мишку я так и не сказал.
Во дворе дома были склады – сараи, занятые овощами и огурцами свежими. Мишка бегает по двору и все видит и знает. Что привозят в сарай и куда складывают. Вот один раз Мишка приходит ко мне в мастерскую, приносит длинную палку и говорит мне: Павлушка, вбей цвик (гвоздь железный для затяжки сапог) в конец палки. Привезли много кульков рогожных со свежими огурцами и некоторые из них расшиты и стоят недалеко от подворотни. Я зацеплю кулек гвоздем, что будет прибит к палке, кулек опрокину, огурцы посыплются к подворотне я их наберу и тебе дам. Я прибил ему цвик в конец этой палки длинной, и он пошел с ней на добычу. Через несколько минут Мишка вбегает в мастерскую увидел, что его отца нет и вынимает из-за пазухи много свежих огурцов, которые мы с ним и ели досыта. Или еще такой случай. У матери Мишкиной, моей хозяйки Александры Павловны, была браслетка из серебряных пятачков. Мишка опроворил это дело и стал снимать с браслета по пятачку монета за монетой. Принесет монету пятачок ко мне в мастерскую - здесь мы с ним острогубцами откусим серебряное ушко, малость подзапилим подпилком, чтобы не было следа от ушка, и Мишка уходит в лавочку, приносит гостинцев и меня угостит; и так Мишка постепенно, монета за монетой, разобрал браслетку его матери. Мать спохватилась, но было уже поздно: от браслета оставался только один скелет – остов-основание, а монет уже не было пятачковых. Она догадалась, подняла шум, но Мишки в это время дома не было. Как только я увидел Мишку, то сразу ему рассказал, что его ожидает порка. Мишка пошел во двор, нашел там мягкую проволоку и обвил проволоку по верху брюк, на поясе вместо ремня. Когда мать увидела Мишку начала его ругать. Он не сознавался, что перетаскал все пятачки с ее браслетки. Мать хотела Мишке всыпать ремня по голой заднице, но снять брюк с него не смогла, так как брюки были опоясаны проволокой. Мать, конечно, поняла, что Мишки подготовил себя к бою, потому что ему сообщил об этом я.
Хотя и дружил сын хозяина – Мишка со мной, однако, я чувствовал какую-то обиду на то, что Мишка учится в городском 5-ти классном училище, а я учусь быть сапожником.
В доме, где я учился сапожному делу, была мелочная лавочка и хлебопекарня Рябининых. Это угольный дом по Богоутовской ул. и Глухого переулка. Вот один раз помню производили ремонт магазина - кое-какие напитки, как, например, лимонад, сельтерская вода, клюквенный квас и другие, были вынесены в подвальное помещение. Мишка, гуляя по двору, увидел это, залез через окно в подвал и вытащил оттуда несколько бутылок с клюквенным квасом и сельтерской водой. Украденное ему некуда было деть, и он принес ко мне в мастерскую и спрятал под мою кровать. Захотелось мне квасу попить. Я залез к себе под кровать, а в это время пришла хозяйка и увидела под кроватью меня и бутылки с квасом, сказала ли она об этом хозяину - не помню, но меня она крепко отругала, и я не знал, что мне делать: говорить ли, что это бутылки не мои, а Мишкины, или нет. Дело обошлось благополучно. Она от хозяина скрыла, и я про ее сына Мишку никому ничего не рассказал.
Учился я в этой мастерской 3 года. Хозяин был немец сердитый, а хозяйка русская и добрая. По воскресеньям меня отпускали в гости к дяде Андрею Антонову. Там я иногда и ночевал. У дяди было 5 детей: сын Андрей, старше меня, сын Петр, Федор, Сергей и дочь Мария младше меня. Андрей тоже учился в сапожной мастерской у Блинова и работал дома, чинил сапоги своей семье.
Тетушка Ульяна Ильинична иногда наговаривала на меня дяде Андрею, что будто бы я взял самовольно и съел сладкие булочки, оставленные ею для маленькой ее дочери Марии. Дядя меня отругал и грозил мне тем, что он не будет меня пускать в семью.
Летом у хозяина спали мы на чердаке над конюшней. Хозяин приходил нас будить. Поднимется по приставной лестнице к дверям и кричит: Колька, Павлушка, вставайте!!! Был такой случая: я проснулся на крик хозяина первым, и я начал будить мальчика Кольку, который был старше меня. Колька не просыпался. Я побудил, побудил его и сам снова уснул. Хозяин пришел будить нас вторично со шпандырем (круглый ремень, при помощи которого сапог прижимают к коленям, чтобы удобно было пришивать или приколачивать подметки к сапогам). Влез на чердак и с криком, вставайте, начал этим ремнем пороть меня. Я вскочил от сна и кубарем прыгнул с чердака на землю. Летом работы у хозяина было много, а главное было много починки сапог. Это самое выгодное для хозяина. Хозяин и нас двое мальчиков-учеников работали по починке обуви, а двое мастеров шили новые дамские и мужские сапоги. Зимой дачники из Гатчины уезжали в Петербург и у нас было затишье в работе. Хозяин и нас два мальчика воровали дрова, длинные поленья от хлебопекарни. Ночью наносим в мастерскую, сложим под нашу кровать, а днем двери мастерской хозяин запирал на крючок, и мы пилили эти дрова на три полена каждое, на колодку. Голенище было широкое и колодка на мою ногу почти вся утонула в голенище. Получился сапог с широким голенищем и маленьким чуть заметным носком. Это примерно, как брюки клеш у матроса, закрывают весь ботинок и иногда из-под клеша чуть-чуть видно носок ботинка. Я увидел, что под руководством бабушки у меня ничего не получится и поступил во вновь организованную сапожную мастерскую в село Прозорово к купцу Белякову. «Леше кореляку» шить новые женские полусапожки на продажу. В магазине зарплата была 3 руб. в месяц. Питание хозяйское. Жил тоже у него в доме без оплаты за квартиру. Проработал я у него месяца 3. Потом уехал в г. Рыбинск.
Моя мать мне рассказала, что Живетьевские ребята, мои ровесники, работают где-то в Рыбинске: Семен Хмелев, Василий Шилов, Тимоха Шилов и Зуев Павлуха и зарабатывают по 8, 9 и 10 руб. в месяц, т.е. почти в 3 раза больше моего.
Что меня и соблазнило.
Июнь 2020